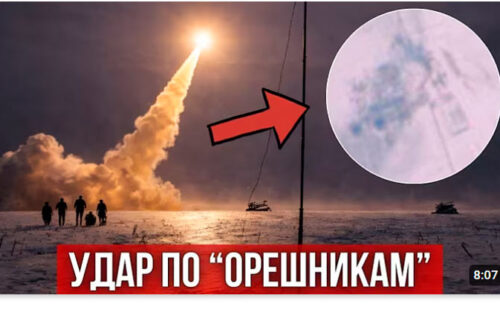Аркадий Бабченко
 Как и обещал, выкладываю не открывавшееся у многих интервью для «Цензор.нет». Одно из лучших интервью. Глубокое, небанальное, профессиональное. Ирина Ромалийская — превосходный журналист. Это серьезное чтение. Ну и да, такие вещи даются очень тяжело, это тяжелая работа, поэтому, если кому-то мои мысли пригодятся, покажутся полезными, заставят задуматься или препринять какие-то действия, то внизу, как всегда, реквизиты.
Как и обещал, выкладываю не открывавшееся у многих интервью для «Цензор.нет». Одно из лучших интервью. Глубокое, небанальное, профессиональное. Ирина Ромалийская — превосходный журналист. Это серьезное чтение. Ну и да, такие вещи даются очень тяжело, это тяжелая работа, поэтому, если кому-то мои мысли пригодятся, покажутся полезными, заставят задуматься или препринять какие-то действия, то внизу, как всегда, реквизиты.
— Почему пошел в Первую чеченскую войну воевать?
— Призвали. Я был срочником, меня никто не спрашивал. У меня в общем-то выбора не было, хотя сам-то я на войну хотел. Я начитался Ремарка, войну представлял себе романтически, как любой мальчишка в 17 лет. Нас построили (полторы тысячи человек), и спросили: «Хочешь ли ты служить на Северном Кавказе?» Я сказал “да”. Большинство отказывались, но все равно всех отправили. И, кстати, я еще остался служить в Моздоке (город в республике Северная Осетия, входящей в РФ, находится на границе с Чечней, — ред), а всех остальных – прямиком в Чечню.
— Почему ты говоришь, что после Ремарка представлял себе войну романтической? Мне кажется, он совсем не романтизирует ее, скорее наоборот.
— Он не романтизирует, видимо, если его читать во взрослом возрасте. Я тоже столкнулся с этим и понял: чем лучше ты хочешь показать всю дрянь войны, тем лучше ты стараешься ее описать. Чем лучше ты ее описываешь, тем, зараза, больше почему-то она романтизируется. Я вот писал-писал, а потом получил письмо от читателя: «Аркадий, здравствуйте, я вас все время читаю, я ваш горячий поклонник, я вами восхищаюсь, я хочу быть таким же, как вы. Я — Дима, мне 17 лет». Вот это меня, знаешь, выморозило. Думаю: блин, дружище, я же писал для того, чтобы ты не стал таким, как я.
— А когда ты понял, что война — это не романтика?
— Как только нас привезли в Моздок. Мы ехали полтора суток, все хихоньки да хахоньки, а тут приезжаем в Моздок, поезд останавливается, а на соседних путях стоит эшелон с разбитой техникой из Чечни. Тридцатитонные танки вывернуты просто наизнанку. И идет женщина мимо поезда, в платке такая, мы спрашиваем: «Тетенька, а что это за город?» Она говорит: «Моздок, ребятки, Моздок». Таким она голосом это сказала, что сразу перестало быть весело.
— Это был какой этап войны?
— Это 96-й год. Летом. Полтора года уже шла война.
— То есть в Россию уже приезжали гробы обратно?
-Да.
— Ты видел, как хоронили?
— Нет. Но в 18 лет вообще особо этим не интересуешься. Я видел, конечно, репортажи по НТВ, как горят танки, разбит Грозный, но… в 18 лет оно тебя не особо трогает, да? Ты еще не осознаешь этого. Потому что в 18 лет ты самый лучший, бессмертный, у тебя все будет хорошо, и ты понятия не имеешь, что можешь попасть в какую-то задницу. Я и не знал, где эта Чечня, я понятия не имел, за что там война идет, что там вообще происходит.
— У тебя не было осознания, что это захватническая война, или несправедливая война? Или считал, что вы забираете назад свою территорию, не отпускаете сепаратизирующие регионы?
— Нет, ты знаешь, такими категориями армия не мыслила вообще. До армии, говорю же, я не задумывался. Потому что у меня второй курс университета, вино-девочки-тусовки, вот это всё… А когда на войну попал, уже как-то без разницы. Тебе в первый же день становится так плохо, что тебе больше ни до чего нет дела. Уже совершенно не имеет никакого значения, зачем эта война, за что эта война. Вот первые две мысли, у всех, кто попадает на войну, всегда одинаковые. Первая — «Это не со мной. Это такое кино», ты полностью офигеваешь, ходишь с квадратными глазами, не можешь поверить в происходящее. И вторая мысль: «Мама, роди меня обратно!» А потом тебе хочется только (прошу прощения, все-таки самый лучший глагол это) у#бывать оттуда. Другого слова я не подберу. И тебя уже совершенно не волнует, зачем и почему.
— А как родители-то отпускали? Ну, окей, я понимаю, в 18 в голове пустота. Но как-то же должны были реагировать родители, старшие?
— Родители реагировали плохо. Мама уже узнала постфактум, что я в Моздоке. Я ей оттуда написал письмо: здесь все в порядке, войны нет. А когда я написал, что мы едем в Чечню, мама не выдержала — поехала за мной. Бабушка пошла торговать шоколадками по электричкам, чтобы насобирать денег на эту поездку. Мама поехала за мной, ночевала на блокпостах, доехала. Мы стояли где-то в полях, приезжает мой старшина из Моздока, говорит: «Бабченко, собирайся. За тобой мать приехала, она уже всю часть разнесла». Она выбила мне отпуск по болезни отца, отец тогда заболел. Старшина мой Савченко Константин Григорьевич (я его долго пытался потом найти, в списках убитых его нет, надеюсь, что живой) матери тогда сказал: «Забирайте его отсюда, потому что его убьют». Мама меня забрала, я уехал. Дома побыл. Приехал, оказалось, что там дизентерию подхватил, заболел, просрочил отпуск… Но все равно я вернулся.
— Почему?
— Это уже ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Ты уже не можешь бросить пацанов, это ж теперь твоя семья. Тот, кто сделал призывной возраст в 18 лет, был очень умным человеком. Очень. Потому что ни семьи, ни дома, ни привязок, ни обязанностей — ничего еще нет. А связь с родителями в этом возрасте уже обрывается очень легко.
— Я о матерях спрашиваю, потому что хочу понять: тех россиян, которые сейчас в моей стране воюют, их матери тоже, может, пытаются отговаривать, возвращать?
— Я не могу тебе сказать, как сейчас все происходит, потому что это две совершенно разные ситуации. Ведь Первая чеченская война в российском обществе не была принята вообще. Россия Первую чеченскую войну восприняла в штыки. Были гигантские антивоенные марши, десятки если не сотни тысяч человек. Протест был жесточайший. Борис Немцов (российский оппозиционный политик, убитый в 2015 году, — ред.) собрал миллион подписей против войны в Чечне! Было движение солдатских матерей. Они ходили по Чечне с фотографиями, разыскивали своих сыновей, особенно без вести пропавших. Сейчас же настрой в обществе совсем другой. Я чего-то не слышал, чтобы кто-то в Донецк приезжал за своими детьми. Что-то, видимо, кардинально изменилось в головах.
— Расскажи, как воевал в Первую чеченскую.
— В первую Чечню я особой войны не застал. 10 человек нас осталось в Моздоке, и мы оттуда ездили в Чечню: 2 недели в Моздоке, неделя в Чечне, туда-сюда мотались. В первую Чечню мне вообще гигантски повезло. Представь: август 96-го, боевики захватили Грозный, там была абсолютная жопа, тупая мясорубка. Уже весь полк был там, а нас собрали в сводный батальон, 96 человек. Связистов, поваров, водителей – всех по сусекам наскребли… Если я когда-нибудь буду снимать кино, я эту сцену обязательно вставлю, потому что это сильное, конечно, впечатление: жарища, плюс 40, пыльный плац, на трибуне стоит только командир полка и его зам, оркестр из двух человек (барабан и труба), нас 96 человек, и мы кривым парадным маршем проходим под заунывное «Прощание славянки», и вдруг на взлетку бежит почтальон с телеграммой и орет «Бабченко! Бабченко!!!» Подбегает ко мне и говорит «На! У тебя отец умер». И они — в Чечню, а я — обратно в Москву. И уже в этот раз я не вернулся.
— На этот раз мама удержала?
— Была в Москве такая шарашкина контора «Пункт сбора военнослужащих». Там собирали всех, кто от частей отбился: кто после госпиталя, кто из плена, кто дезертировал… Пару раз меня оттуда пытались отправить в Чечню. Это была уже осень. Но я уже сам не захотел, потому что уже было понятно, что война проиграна, все просрано. Хасавьюртский мир уже подписан, речь идет о том, чтобы выводить войска.
— Но повоевать-то успел?
Каких-то особых боев я не застал. Моя война в первую Чечню заключалась в том, что мы рыли сортиры, рыли блиндажи, куда-то переезжали, искали дрова, строили палатки. Время от времени кто-то в тебя стреляет, и ты совершенно не понимаешь: кто, чего, откуда, зачем. Нас особо-то и не учили. Одно из самых сильных впечатлений – это взлетка в Моздоке. Нас в составе колонн приводят на взлетку, а из Чечни на взлетку прилетают вертушки. Из вертушек выгружают тела в пакетах, в эти вертушки загружают солдат в новых шинелях. Вот это действовало сильно. Сильно действовало еще одно. Я был связным, там ты сидишь и слушаешь сводки: «Шамиль Басаев захватил 2 установки «Град» и движется на Моздок». А ты один в казарме, тебе надо куда-то кому-то это передать в 2 часа ночи. Или: “В Прохладном вырезали команду, усилить посты”. На психику это давит довольно сильно.
— Было когда-нибудь осознание, что высшее руководство страны, армии от вас отказывается?
— Только такое осознание и было. Ощущение предательство было абсолютно полное.
— Когда?
— Всегда. С первого дня и до последнего. Кидают 18-летних пацанов непонятно куда, задач не ставят. Я стрелять не умел, когда в Чечню приехал, меня не учили. У нас ни черта нет. Командование бухает. Непонятно что происходит. У меня был командир роты капитан Минаев, который не трезвел никогда. Т.е. ты заходишь к капитану Минаеву, а он в каптерке лежит обоссанный, слюни текут. Я его другим просто не помню. Старший прапорщик Савченко Константин Григорьевич — офигенный мужик, он роту и тянул. Но в какой-то момент я уехал в отпуск, вернулся, а вся рота в Чечне, я остался вообще один. Ни-ко-го. И всем на тебя плевать. Я жил в казарме. Потом из казармы уходил, ночевал под кустами, возвращался в летную столовую, там воровал еду, ну, просил. Стучишься в окошко: «Тетеньки, дайте хлеба». Тебе дадут хлеба, котлету, ты пожрешь и идешь куда-нибудь в госпиталь, там 3 дня перекантуешься. Т.е. я там бомжевал просто абсолютно. Меня, кстати, в штатном расписании нет до сих пор. Потому что меня старший прапорщик Савченко внес в штатное расписание роты, потом в полку началась эпидемия дизентерии, я этим штатным расписанием подтерся — всё! Понимаешь, это была толпа 18-летних мальчишек с автоматами, нафиг никому не нужные, и время от времени их куда-то кидали, а они там горели тысячами.
— После Первой чеченской ты вернулся в Москву. Чем занимался?
— Восстановился в университете. Два курса оставшихся не то, чтобы доучился, а так, шарман воландал. В день, когда получил диплом, включаю телевизор и узнаю, что началась Вторая чеченская. На следующий же день пошел в военкомат.
— Потому что там свои?
— Нет, там уже не свои. Когда вторая Чечня началась, там никого моих не было. Но башню заклинило все-таки капитально. Я в этом мире не прижился, я его просто не понимал. Вот мое возвращение. Я 2 часа назад был там, где из вертушек выгружают трупы в серебристых пакетах и тут – бах! — ты в Москве! Тут казино, мерседесы, бабло, какие-то бандиты на Pajero ездят, ночные клубы… У тебя в башке это все вообще не укладывается. Шестеренки стопорятся, и ты этот мир не понимаешь вообще. Ты его вообще не переносишь. У тебя только одно ощущение: пацаны, вы что, охерели, что ли? Там война идет, там люди людей убивают, там детей убивают, а вы тут ходите по своим кабакам-казино, катаясь на мерседесах, какие-то банки строите. И ненависть просто невероятная! Ты начинаешь ненавидеть… (пытается подобрать слово)
-…мирную жизнь?
— Мирную жизнь.
— Лощенность?
— Да-да-да. Ты начинаешь ненавидеть этот город, которому плевать на войну. Ты понимаешь, что ты здесь совершенно лишний. Ты понимаешь, что ты идиот-дурак, что за эти 2 года, даже за эти 2 года, пока ты был там, твои одноклассники уже начали делать какую-то карьеру, начали зарабатывать какие-то деньги, а ты – не пришей кобыле хвост… И я мирную жизнь возненавидел просто до колик. И когда началась война, я поехал просто на войну. Мне плевать было уже, где эта война.
— Т.е., по-честному, ты так мог поехать и на Донбасс, например?
— Началась бы война в Красноярске, я бы поехал в Красноярск. Началась бы война в Москве, я бы с величайшим удовольствием, пошел бы воевать в Москве. Началась бы война тогда на Донбассе, я бы бегал сейчас на Донбассе, за «ДНР», как идиот с автоматом, орал бы там «Новороссия! Новороссия!» Хотя орать бы уже не орал.
— С такой мотивацией многие оказались на Донбассе? Те, кто после других войн не смог найти себя.
— Я не думаю, что многие, но какой-то процент безусловно есть. У меня знакомые туда поехали тоже воевать.
— Именно во время Второй чеченской твое отношение к войне поменялось?
— Вторая война для меня была, конечно, жестче, чем первая. И там я уже начал думать. В какой-то момент, я помню, меня как прорубило… я зашел в какую-то, по-моему, квартиру, она была не разрушенная. Дверь не выбита. просто люди выехали – внутри все абсолютно мирно. И ты заходишь туда в кирзачах, с оружием, а там фотографии на стене, книжки на полках… И я помню, там был дневник девчонки, лет 10-12, наверное. Она в дневнике писала разноцветными карандашами, какие-то нарисованы пони, единороги, сердечки, принцы… Дневник — абсолютно мирный, там о войне не было ни слова. И вот ты стоишь с оружием в кирзачах посреди этой мирной жизни, читаешь дневник этой 12-летней девчонки, и тебе как бревном прорубает «Бл#дь! Что я здесь делаю?! Это чужая земля, чужой дом, чужая квартира. Я русский, я жил в Москве — 2 тысячи километров отсюда. Я сюда не должен был попасть, оказаться вообще никак. Я бы прожил всю свою жизнь, я бы в Чечне не был бы ни разу. Зачем я сюда пришел и с автоматом в руках сейчас здесь стою?!» Вот прям прорубило. И после этого ты начинаешь думать. Ты понимаешь, что мы зашли на чужую землю, начинаешь анализировать. Понимаешь, что мы же здесь себя неправильно ведем. Нас же воспитывали как? Самое страшное, что было в мире – это Вторая мировая, когда пришли немцы. А тут ты понимаешь, что тактика контрпартизанской войны везде одинаковая. Ты видишь, что ведешь себя ровно точно так же, как немцы вели себя в Беларуси: ты строишь комендатуры, от них — блокпосты, от комендатур до блокпостов ты ездишь только на броне, в сопровождении танка. Ночью в тебя стреляют, кругом партизаны. Ты – захватчик на чужой земле. И ты мысленно обращаешься к руководству: “Бл#дь, ребята, вы что-то не то делали. Вы нам в кино про это показывали, рассказывали, что это плохо…”. В какой-то момент я уже просто перестал стрелять. Ты видишь, что какие-то две фигурки идут, ну, скорее всего, боевики. И не стреляешь. Пусть идут.
— Пусть они потом стреляют в тебя?
— Вот они в тебя не стреляют сейчас — и ты в них не стреляй. Потому что ты начнешь стрелять в них, они начнут стрелять в тебя, наша ответка пойдет туда больше, их ответка пойдет оттуда больше, в кого-то прилетит, кого-то обязательно убьют, опять кровь – ну его нахер, пусть идут мимо. Все.
— Но такое понимание приходило не ко всем же?
— Нет, не ко всем. На вторую войну армия пошла мстить. Мотивация второй Чечни для армии была именно месть. Армия туда пришла уже озлобленная, ненавидящая уже чеченцев, армия была преданная. А ведь в первую Чечню ненависти особо не было, она не успела образоваться.
— В одном из своих интервью ты рассказывал, что в тебе однажды тоже родилась та самая ненависть…
— Это было во время Второй чеченской, март 2000-го, Шаро-Аргун (Шаро-Аргун — село на берегу реки Шароуаргун, — ред.). Это было примерно через неделю после того, как погибла шестая рота под Улус-Кертом. Мы стояли тогда под Шатоем, этот бой слышали. Взвод, отправленный в разведку, попал в засаду. Игорь — мой друг и земляк, мой самый близкий тогда человек был в батальоне, — подобрался на несколько метров к укрепрайону боевиков, где был КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, — ред.). Игорь хотел кинуть гранату, привстал на колено, и в него попало сразу несколько снарядов. Граната выпала из рук, он еще упал на гранату и у него там в бушлате мало что осталось. Я этого не видел, мне рассказывали. Его долго не могли вытащить. Вытащил его потом Олег, сослуживец из взвода связи. Я до сих пор не могу себе простить, что это не я сделал.
— Что не ты вытащил?
— Да. Когда я узнал, что погиб Игорь, вот тогда у меня и унесло башню напрочь. Я помню этот момент. Я реально начал видеть себя со стороны, немножечко сверху. Я лежал под деревом. Пуля ударила в дерево, в сантиметрах 20 над головой. Я в эту пулю, застрявшую в дереве, вцепился зубами и начал ее выгрызать. Выгрызал и выл. Тогда я хотел убить всех, абсолютно всех: баб, детей, стариков… Убить руками, зарубить саперной лопаткой, а потом сдохнуть самому. Потому что жить совершенно не хочется. Вот.
Но, слава тебе, Господи, ничего из этого не сложилось. Дня через 3 примерно, я вернулся в себя.
— А как вышел из этого состояния? Или это накатывает волной и уходит, как истерия?
— Да, это истерия, сумасшествие, накатило волной, потом само ушло. Потом из этого состояния я выходил лет 15. Хотя это лишь острая стадия прошла, совсем из этого выйти уже невозможно, это на всю жизнь. Я уже ночами не вскакиваю, алкоголь перестал быть жизненно необходимым. А когда с войны вернулся, я же бухал каждый божий день года два подряд. Но, слава Богу, не спился. Мне повезло, потому что удалось зацепиться за мирную жизнь, работу найти, семью создать. Москва потому что. А если б я вернулся, например, в мой любимый Вышний Волочёк (город в Тверской области РФ, — ред.), я бы уже от цирроза лет 10 как помер. А еще я писать начал. Вот еще что мне помогло.
— Ты сам убивал?
— Нет. Нет… Процентов на 95 уверен, что нет. Слава тебе, Господи.
— Но ты же командовал расчетом АГС, часто мог и не видеть, убиваешь ли ты, я правильно понимаю?
— Дело в том, что современная война такова, что ты противника практически не видишь. Вот я живого чеченца-противника видел, наверное, раза два в жизни: вот где-то что-то промелькнуло и все. На современной войне живешь до тех пор, пока ты невидим. Если тебя заметили, ты мертв. Поэтому в общем война заключается в том, что откуда-то в тебя прилетает, ты в ответ куда-то начинаешь стрелять. Контактный бой, когда ты видишь противника глаза в глаза – это довольно редкая вещь. Поэтому, да, я куда-то фигачил, и из автомата фигачил, но я просто-напросто не попал. Я просто-напросто не попал. Я же был и связистом и рядовым, и командиром расчета АГС, и наводчиком-телеграфистом в БТРе, т.е. у меня там масса профессий поменялась. Командовал АГСом я, наверное, месяц, но особо стрелять не пришлось. Куда-то стреляли, но могу сказать точно совершенно — я не попал.
— От этого легче?
— От этого намного легче, чрезвычайно легче. Я сейчас благодарю Бога, что на мне нет крови. Но при этом все-таки процентов 5 я оставляю на какой-то там несчастный случай, что, может быть, все-таки что-то куда-то мое прилетело…
— И мирный мог погибнуть. Это еще тяжелее принять, наверное…
— Конечно. Через неделю-две, через месяц, у тебя чувства притупляются, тебе становится вообще на все насрать – своя жизнь ничего не стоит, не то, что чужая. Но, все равно, важно было не зацепить “мирняк”.
Я помню случай. Грозный. Мы из 6-го микрорайона выдвигаемся куда-то в центр, какая-то стрельба, мы выходим на площадь перед кинотеатром, а сбоку по улице идет группка женщин с белым флагом. Они идут плотно, и понятно, что в середине у них мужики, ну, это чувствуется, это сразу видно. Видно, что они мужиков выводят.
— Может, раненые?
— Может, раненые, может, боевики, может, просто мирные жители. Но если мирный житель — мужик в возрасте, то ему кирдык сразу. И рядом стоит со мной парнишка, поднимает автомат, и я успеваю ему ствол задрать вверх и очередь уходит вверх. Говорю: “Не стреляй, что ты делаешь, это ж бабы!” Он: “Но там в середине у них мужики”. Я говорю: “Ну и черт с ними, пускай уходят, мы женщин убивать не будем”. Он меня тогда не понял.
— Потому что они вернутся из лесов и будут убивать вас?
— Ну, в общем-то, да. Но я ему не дал стрелять. И тоже сейчас благодарю Бога за это.
— Мирные жители воспринимали вас как захватчиков или как освободителей?
— В первую Чечню там было одно чувство по отношению к русским — ненависть. Ты приезжаешь в Чечню и там просто комок ненависти висит, она в воздухе, хоть ножом режь. Я помню за нашим БТРом бегут пацаны, лет 9-10, кричат «Аллаху Акбар» и проводят большим пальцем по горлу, типа мы вас всех перережем. А тебе 18 лет, и ты ни черта не понимаешь. Или остановились мы как-то на блокпосту пророссийской милиции. Там мужик-чеченец лет 30, я смотрю на него, а он заметил мой взгляд и говорит: «Э… чего смотришь?» И я чувствую, что он хоть и пророссийский, но он все равно нас ненавидит.
А потом, когда Россия из Чечни ушла, у них было 3 года независимости. Но государство построить так и не удалось, это все превратилось в бандитскую республику: с заложниками, похищениями, бандитизмом, убийствами. И к началу Второй чеченской войны люди от этого устали уже до такой степени, что им было все равно. Все равно кто: хоть русские, хоть Шамиль Басаев, хоть марсиане, хоть американцы, хоть инопланетяне прилетите, но пусть здесь будет какие-то закон и порядок. Вот тогда у России был шанс действительно установить мир в Чечне, но опять же началось: танки, опять начали херачить ракетами, бахнули “Искандером” по рынку в Грозном, опять же Буданов (командир полка российской армии, которого обвинили в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченской девушки, — ред.)… Опять раскатали Чечню вдребезги – и ненависть опять вернулась.
— А чеченские женщины приходили к вам, говорили “Зачем вы убиваете наших мужей-братьев-сыновей-отцов?”
— Нет, такого не было, они понимали, что это чревато. К нам в полк как-то пришли одна женщина, искала пропавшего сына. Причем мы стояли тогда там, где боев никаких не было. Поговорили, сказали, что сына у нас ее нет и быть не могло. И думаешь её отпустили, да? Ни фига. Её в яму посадили. Зачем? Непонятно.
С чеченскими женщинами много разговаривали. Но они всегда держали дистанцию, были очень отстраненные. Когда был бой, в котором Игорь погиб, нас отвели вниз, в лощинку, и там был хутор. Жила одна семья: женщина и мужик, и дети. И она все время выгуливала коров, вела их через наши позиции. Мы её пытались кормить, хлеб давали, потому что там четырнадцатый век, там вообще ни хрена нет. Еду она принимала, но такое ощущение, что ты с каменной стеной разговариваешь. Ей еду даешь, она говорит «спасибо», и все.
— Мародерство в армии было?
— Мародерство — это была основная форма самообеспечения армии. Ведь армию не обеспечивали вообще ничем. Поэтому мародерство было, как тебе сказать, для жизнеобеспечения, оно было оправданной необходимостью. Вот в Вашендорой (село в Шатойском районе Чечни, — ред) когда нас перекинули, мы пошли в село и набрали там одеял… Ведь это зима была, горы… В горах ты себе уже блиндаж не откопаешь. Спали на камнях, на снегу. У меня носки примерзли изнутри к сапогам, я их снять не мог, пока не оттаяли – портянки льдом схватились. Пошли в Вашендорой, притащили раскладушки, одеяла, я взял себе теплый красный свитер, шапку теплую, овчинную кожу мы нашли в разрушенном доме, из которой Женька нам потом сшил овчинных шапок – вот в подавляющем большинстве случаев мародерство было именно такое. Но было и другое мародерство. Подзывает меня как-то замкомвзвода, говорит: “Посмотри, золото ли это”. И достает носовой платок, разворачивает, а там — зубы из белого золота. Я не думаю, что он их сам выбил. Не думаю, что он их с трупа снял. Думаю, что он это нашел где-то в разрушенном доме, но тем не менее… золотые зубы носить в платочке – это не первой необходимости вещи. А уже как мародерили офицеры, о-о-о-о-о! У меня один командир роты, которого я знаю, он из Чечни дом себе вывез.
— Как это — “дом вывез”?
— Он в Чечне нашел дом, разбирал его по бревнам, грузил на БТРы, вывозил. Потом у себя дом собрал – с дверями, с окнами. Ковры тянули, телевизоры… А командир полка на трофейном Pajero оттуда уехал.
— А мародерство может быть мотивацией для тех россиян, которые идут воевать?
— Нет, нет, нет. Ну, слушай, тебе нужна такая работа, где тебя с очень высокой вероятности грохнут, но ты оттуда вернешься с двумя коврами и старым телевизором? Я не думаю, что кто-то особо ищет такую работу.
— Ну, на Донбассе у нас россияне вскрывали отделения банков, например, вывозили целые предприятия, это не два ковра и старый телевизор.
— На Донбассе грабили, конечно, сильнее. И особняки отжимали, и машины отжимали. Но, знаешь, во-первых, с Донбасса вывезти в Россию что-то сложно. Во-вторых, я думаю, что этим занимались по большей части все-таки местные. А, в-третьих, поначалу, когда был разгул мародерки, туда все-таки из России ехали более идейные товарищи. Они ехали воевать против «бандеро-фашистов и мочить ххлв, которые напали на русский мир….»
— В 2008 году в Грузии ты уже был в качестве военного журналиста. Общался же там с российскими военными. Ты понимаешь, почему они шли туда, какова мотивация?
— Российская армия тогда уже была закрытая. Интервью давали только по письменному распоряжению из Министерства обороны. Я подошел к чеченцам, батальону «Восток» Сулима Ямадаева. Говорю «Пацаны, можно с вами?», они мне: «А, журналист, давай садись с нами, поехали!» Вот с ними я, конечно, общался, но я бы не сказал, что это российская армия.
— Сейчас на Донбасс почему идут?
— Соотношение нищеты, безнадеги, великоимперского шовинизма и пропаганды. Пропаганда ложится на хорошую почву.
— В России нищета?
— В Москве, Питере, Красноярске, в 10-20 крупных городах России можно нормально жить. А вся остальная Россия – она бедная. Она в девятнадцатом веке. От региона к региону — реально жопа. Выезжаешь из Москвы, едешь 180 километров до Волги, до Твери – это двадцатый век, а переезжаешь Волгу — и там сразу девятнадцатый. Линия разграничения веков проходит по фарватеру Волги, это прямо чувствуется. Там безнадега и алкоголизм. Ты рождаешься, живешь в своем Вышнем Волочке, заканчиваешь школу, а дальше что? Либо бухать, либо в тюрьму. А тут по телевизору показывают, что бандеры-фашисты убивают русских. И вдруг у тебя появляется возможность куда-то поехать, мир посмотреть, потому что они это рассматривают как возможность вырваться из этой своей безнадеги. В Чечне же таких было полно. Был у нас парень из-под Смоленска, он сидит и ржет. Я говорю: «Что ты ржешь, дебил? Мы с тобой в полной жопе находимся». А он: «В какой жопе, ты чего? Смотри, горы. Я хоть горы посмотрел, я мир посмотрел. Я жизнь увидел. Мне только война дала эту возможность». Это один из основных факторов.
— Вот ты знаком, например, с российскими писателями Прилепиным и Карасевым, которые раньше воевали в Чечне, а теперь на Донбассе воюют против нашей армии…
— Да. Мы с ними по ветеранской теме пересекались. Я даже дружил с ними обоими.
— Вот у них какая мотивация, ты понимаешь?
— Слушай, я не знаю. 17 лет все-таки прошло. Это гигантский срок. Мы уже все другие люди. Саша Карасев писал антивоенные рассказы. Он после той войны стал пацифистом. Что с ним произошло, почему он сейчас майор “ДНР”, я не знаю. Я не знаю (и собственно говоря, мне совершенно неинтересно), что произошло у него в голове, какие причины этого, — уже плевать.
— А Прилепин? Иногда мне кажется, что он искренне верит в то, что говорит.
— У меня складывается ощущение периодически, что он играет в игру, к 40 годам так и не повзрослев.
— Но искренне играет?
— Ну, наверное, да. Инфантилизм, в общем-то, всегда искренний.
— А Гиркин, например?
— Ну, Гиркин – идейный. Он спит и видит возрождение Российской империи, монархии. Мол, вот мы — великая империя, от моря до моря и плюс еще половина Европы наша. Все нам кланяются и платят дань. А он – офицер белой армии, правая рука монарха, и должность свою он получил за свои подвиги. Он живет в этом мире. У Прилепина несколько другое мировоззрение. Но тоже в общем примерно такое. Он более левых взглядов. Но тоже он живет в своем мире. У него Советский Союз от моря до моря, где мы всех буржуев повесим и везде будет справедливость и счастье. Но это отдельные случаи, это люди, живущие полностью в своей вселенной.
— Ты видел войны в Чечне, Грузии, в Украине… В чем они разные, в чем схожие?
— Я уже говорил, что все войны всегда похожи: война — это война, смерть – это смерть, страх – это страх. Но при этом все войны, конечно, разные. У всех свои нюансы, начиная от предпосылок к войне, и заканчивая тактикой и стратегией, ощущением солдат себя на этой войне. Все перечисленные войны одинаковы они в том, что это все они — российские имперские войны. В десятый раз повторюсь: Россия не воюет ни с Грузией, ни с Молдовой, ни с Украиной, потому что Россия не рассматривает окружающие ее постсоветские страны как субъекты права. В представлении России таких государств не существует. Россия воюет с Соединенными Штатами Америки. А Грузию, Молдову, Черногорию, Украину рассматривает как мешки с песком, из которых она выкладывает бруствер вокруг себя, чтобы не пришло проклятое НАТО. Вот в этом смысле все эти войны, конечно, похожи.
— Знаешь, в детстве мне в школе рассказывали, что была война в Афганистане. Меня приучали чтить память погибших там, уважать раненых и так далее. Позже я поняла, что это была несправедливая война, не наша. Вот коль так сложилось, должно ли сейчас государство платить социальные пособия ветеранам афганской, должно ли общество ставить им памятники, должны ли школьники нести гвоздики к этим памятникам?
— Слушай, я начинал тоже с этого: пусть моя страна не права, но это моя страна, пусть мои солдаты были на неправедной войне, но это солдаты моей страны, они ни в чем не виноваты и, государство, будь любезно, обеспечь их. Ты их туда послало, давай, будь любезно, сделай им нормальную жизнь после войны. После второй Чечни я лет 10 занимался ветеранскими темами: искал коляски, костыли, деньги, операции выбивал. Но. Извини меня, Афганистан – ну, окей, да, ладно. Первая Чечня – ну что ж… Вторая Чечня – ну, ребята! Потом – Грузия, потом – Украина! Блин, ребята, ну вы уже полвека ходите по одному и тому же кругу. Вы что, дебилы, что ли?! Вы пятый раз наступаете на одни и те же грабли. Ну сколько можно! Если вы дебилы, то я здесь при чем?! Я не могу свой мозг вынуть и положить в чужую черепную коробку. Сейчас мне уже абсолютно плевать. Как отрезало. Сейчас я не могу даже помогать семьям тех, кто погиб в Чечне, потому что видеть людей в российской военной форме я уже просто органически не могу. Отторжение дошло до крайней точки.
— Если бы от тебя зависела школьная программа, что бы ты говорил детям на уроках о ветеранах афганской войны?
— Я бы говорил, что это наши солдаты, страна их туда отправила. Но нам с вами надо понимать, что это была неправедная война, что это была империалистическая война, и наша с вами задача, сделать так, построить такое государство, чтобы никогда, бл#дь, наши солдаты никуда “за поребрик” больше не лезли.
— Когда перестанут лезть?
— Видимо, никогда уже. Когда вместо России будет Московия, тогда, наверное, может, перестанут…
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Источник – «ФБ Аркадия Бабченко»