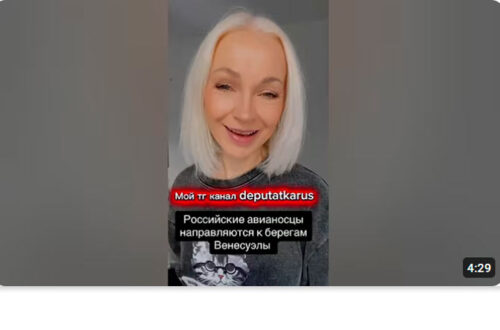Сегодня в Америке умер великий русский поэт, друг и автор «Новой газеты» Наум Коржавин
Зоя Ерошок, обозреватель
Фото: Юрий Рост / «Новая газета»
 девятнадцать лет он написал «Зависть».
девятнадцать лет он написал «Зависть».
Прочитайте, пожалуйста, очень внимательно это стихотворение. Особенно — среди молодежи — те, кто никогда его не читал.
Зависть
Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
И какие бы взгляды вы
Ни старались выплескивать,
Генерал Милорадович
Не узнает Каховского.
Пусть по мелочи биты вы
Чаще самого частого,
Но не будут выпытывать
Имена соучастников.
Мы не будем увенчаны…
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.
1944 год
Нет, вы только вдумайтесь: кому и в чем завидует студент литинститута в сталинские годы. И читает эти (и другие) свои стихи открыто, не таясь, в очень разных, в том числе и широких аудиториях.
Ранние коржавинские стихи удивительны, абсолютно ни на кого не похожие, они не детские, не юношеские, а взрослые, внятные, определенные, беспредельно талантливые и сейчас, когда я пишу эти строки, когда только-только получила весть о его кончине, хочется вспоминать именно эти стихи.
Вспомнить и помянуть стихами. Артистов провожают в последний путь аплодисментами, а поэтов, наверное, надо прежде всего стихами.
Поэтому мне очень хочется сегодня, в эти первые часы, когда он нас покинул, поставить на сайт коржавинские стихи. Они сами за себя скажут так много! И еще что-то из воспоминаний и интервью, чтобы опять же читатель услышал его голос, неповторимый, чистый, честный.
В воспоминаниях своих рассказывал:
«Голодомор я ясно помню. Я помню Киев тридцать третьего года. На улицах лежали трупы, у продмагов валялись люди и просили: «Хлиба, хлиба!» Но лишнего хлеба мало у кого было, и очень трудно было давать, хотя хотелось давать, особенно детям.
Там лежали и дети тоже, а я в детстве знал, что валяться на земле нехорошо, негигиенично. Так мне внушали.
Однажды у ворот нашего дома собралась небольшая толпа. В подворотне прямо на булыжнике лежала, скрючившись, опухшая и ко всему безучастная женщина неопределенного возраста в грязных лохмотьях… Она вдруг дернулась и затихла. Человека не стало. В таком обличие предстала предо мной впервые смерть.
Дальше было еще страшнее. Подъехал грузовик. На нем пластами лежали трупы. Пласт трупов и пласт брезента.
Потом я встречал много таких машин. Я уже знал, что это такое, хотя был маленький.
Мы же продолжали жить, веселиться, верить в коммунизм, читать пионерские журналы.
Сталин ограбил народ и сказал, что жить стало лучше, жить стало веселей. Люди пережили не только голод. Свыклись с мыслью, что есть люди, которых не жалко. Люди-издержки. Потом я сам попал в такую категорию людей. Именем народа научились убивать народ. Вместе с грамотностью освоили людоедство.
И это было страшно. Девушки бежали мимо трупов на свидания. Они ж, девушки, не могли отменить свои семнадцать лет».
Как-то в интервью мне сказал, тяжко вздыхая: «Цветаева писала про те годы: «Есть времена, где солнце смертный грех. Не человек, кто в наши дни живет». Это эпиграф ко всему этому времени. Нельзя было это пережить, а мы пережили».
Дети в Освенциме
Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей.
И это каждый день опять:
Кляня, ругаясь без причины…
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что — обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли,
От взрослых дети ждут защиты.
А дни всё шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы.
Но их всё били. Так же. Снова.
И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
Мужчины мучили детей.
Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это — было!
Мужчины мучили детей!
1958
Сегодня 22 июня 2018 года. А у Коржавина есть вот какое стихотворение.
22 июня 1971 года
Свет похож на тьму,
В мыслях — пелена.
Тридцать лет тому
Началась война.
Диктор — словно рад…
Душно, думать лень.
Тридцать лет назад
Был просторный день.
Сколько средь полей
У различных рек
Полегло парней,
Молодых навек?
Что осталось?.. Быт,
Суета, дела…
То ли совесть спит,
То ли жизнь прошла…
1971
Его стихи нравились даже следователям, которые вели допросы:
«В Литинститут меня сначала — в 1944 году — не приняли. Потому что… Ну, понятно почему! Даже директор сказал, что вам надо уголь грузить. Ну, испугался он. А я тогда дурак был, всем всё читал, потому что если писать и не читать, то это бред. Стихи — это внутреннее обращение. Я читаю людям вовсе не от храбрости, не от героизма, не потому что думаю, что стихами что-нибудь изменю. Я читал их потому, что они из меня перли.
Одно мое мальчишеское стихотворение очень понравилось моим следователям за профессиональный термин «компромат». Они говорили: «Наум, прочти стихи про компромат».
Восемнадцать лет
Мне каждое слово будет уликою
Минимум на десять лет.
Иду по Москве, переполненной шпиками,
Как настоящий поэт.
Не надо слежек! К чему шатания!
А папки бумаг? Дефицитные! Жаль!
Я сам всем своим существованием —
Компрометирующий материал!
1944
Фото: Юрий Рост / «Новая газета»
А вот Коржавин вспоминает о встрече с Паустовским и о том, как его принимали в литинститут:
«Константин Георгиевич Паустовский был, пожалуй, самым популярным писателем своего времени. Он жил тогда в Переделкине, на даче Федина. Приняты мы были. Моя спутница сказала, что я пишу хорошие стихи. Услышав это ничего хорошего не предвещавшее вступление, Константин Георгиевич попытался уйти в глухую оборону:
— Я не люблю слушать стихи.
Но в конце концов сдался:
— Ну ладно, одно стихотворение я еще могу выдержать.
И я прочел «Стихи о детстве и романтике» — практически об отрочестве и ежовщине — и победил. Паустовский несколько смутился, крякнул, сказал:
— Читайте еще…
Читал я тогда много. Он расспросил меня о моих делах, узнав, что я должен поступать в Литинститут, вызвался мне помочь и написал письмо директору института Ф.В. Гладкову, в котором рекомендовал меня с наилучшей стороны.
Письмо я передал. Потом, стоя за дверью, подслушал разговор на приемной комиссии. Докладывавший рассказал всю мою историю и предложил принять меня на… заочное отделение.
— А почему на заочное? — спросил Гладков. — Вы ведь говорите, что он талантлив.
— Да, но с ним трудно, — ответил докладывавший.
— С талантливыми всегда трудно, — возразил Гладков. — Что ж, нам одних бездарей принимать, чтоб нам легче было?
И я был принят».
И — о 16 октября 1941 года. Когда Москву охватила паника. Казалось, что война проиграна, все бегут из столицы. Но все молчало на всех языках, подумать об этом было страшно. А Коржавин написал стихотворение «16 октября».
16 октября
Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день — едва ли
Им было до календаря.
Все переоценивалось строго,
Закон звериный был как нож.
Искали хлеба на дорогу,
А книги ставили ни в грош.
Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну.
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.
Стараясь выбраться из тины,
Шли в полированной красе
Осатаневшие машины
По всем незападным шоссе.
Казалось, что лавина злая
Сметет Москву и мир затем.
И заграница, замирая,
Молилась на Московский Кремль.
Там, но открытый всем, однако,
Встал воплотивший трезвый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.
Или вот:
Стихи о детстве и романтике
Гуляли, целовались, жили-были…
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.
Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
И вдруг по нервам прыгала волна…
Звонок урчал… И дети просыпались,
И вскрикивали женщины со сна.
А город спал. И наплевать влюбленным
На яркий свет автомобильных фар,
Пока цветут акации и клены,
Роняя аромат на тротуар.
Я о себе рассказывать не стану —
У всех поэтов ведь судьба одна…
Меня везде считали хулиганом,
Хоть я за жизнь не выбил ни окна…
А южный ветер навевает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник,
А в голове крутилось и вертелось
От множества революционных книг.
И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах…
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные — кругом…
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом.
30 декабря 1944
20 декабря 1947 года в два часа ночи его арестовали в студенческом общежитии.
«Мне предложили одеться, и тут же прозвучал идиотский вопрос: «Оружие есть?» Я буркнул: «Пулемет под кроватью». И услышал в ответ резкое: «Не острите. Отвечайте на вопрос». Начался обыск.
Он, как и я, не знал, как он тогда был близок к истине… но отнюдь не истину он имел в виду. Фраза его была чисто профессиональной… Это был рабочий прием.
Но я этого еще не понимал и отнесся к его словам со всей серьезностью. <…> Я вовсе не смешался, а попытался понять смысл его слов, попытался вступить с ним в беседу на эту тему. Сказал, что, возможно, он и прав, и стал ждать, что он сейчас выложит мне все свои мысли, обоснования и аргументы. Тогда смешался он сам. Так я выиграл это состязание идиотизмов. Выработанный мной искренний идиотизм пересилил идиотизм его профессиональной выучки.
Ирреальности происходящего противостояла только ирреальность снов. <…> В первые дни меня все время тянуло в сон, точнее к снам, как, вероятно, наркомана к наркотикам. Во сне я опять оказывался в общежитии, в нашем подвале и рассказывал ребятам, какой бред мне приснился. Но потом я просыпался, и бред оказывался явью.
(…) Как раз в это время отменили карточки. Мы получили стипендию. И я купил вожделенную — давно мечтал — баклажанную икру. Съел полбанки. А потом меня увели. И мне было жутко обидно, что я не доел.
(…) Слава богу, на Лубянке была большая библиотека из конфискованных книг. Там я прочел много из Достоевского, полностью «Дневник писателя», «Жан Кристофа» и многое другое.
Когда я пришел в эту камеру, я застал там тома «Войны и мира». Меня по понятным причинам читать не тянуло. Но однажды я совершенно машинально взял в руки один из томов и открыл его на случайной странице. И тут же полностью погрузился в мир этого романа. И дело даже не в том, что я не мог уже от него оторваться, — просто я опять начал жить… Слава богу, что наши мучители не понимали этого исцеляющего воздействия хороших книг».
Исцеляющее воздействие коржавинских стихов в возлюбленном отечестве испытывают на себе люди таких разных поколений, что я вам и не скажу, скольких именно. Пыталась посчитать, со счету сбилась.
Я уже много лет подряд в каждый семестр читаю своим студентам лекции о Коржавине. И странное дело, они, все такие продвинутые, поколение соцсетей, бегут ко мне и тут же на переменке переписывают от руки его стихи себе в тетрадки. Студенты разные, а воздействие одно. Очень исцеляющее!
А первые его юношеские стихи переписывались от руки и распространялись по всей Москве задолго до самиздата.
…В эти минуты у меня разрывается телефон, звонят и приносят соболезнования, в мой редакционный кабинет заходят люди, опять же разные, и опять же много молодежи.
Источник – «Новая газета»